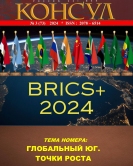Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Эдуард Воловик
 Сейчас любому из нас, членов Союза воспитанников детдомов, уже больше 70 лет. Тяжелое и незабываемое время сиротского детства соединило нас невидимыми узами. Мы до сих пор дружим и помогаем друг другу. Как и наши умершие братья и сестры, наши друзья и подружки, мы не знали детства, не испытали того блаженного чувства, когда на губах вечно улыбка, а в душе всегда мир.
Сейчас любому из нас, членов Союза воспитанников детдомов, уже больше 70 лет. Тяжелое и незабываемое время сиротского детства соединило нас невидимыми узами. Мы до сих пор дружим и помогаем друг другу. Как и наши умершие братья и сестры, наши друзья и подружки, мы не знали детства, не испытали того блаженного чувства, когда на губах вечно улыбка, а в душе всегда мир.
Сам не знаю, зачем постоянно смотрю телевизионные передачи «Жди меня». Вот недавно в студии сидел мужчина, который разыскивал своих родственников, потерянных во время войны. Фамилию, имя и отчество этот далеко уже не молодой человек получил в эвакуации, в детском доме. Родился он приблизительно в 1937-1938 годах. Был эвакуирован из Ленинграда в Ярославскую область в 42-м. Помнит, что у него были в четырехлетием возрасте светло-русые волосы... Слышу описание этих примет, а у самого в душе возникает совершенно утопическая надежда: а вдруг тогда, в 42-м, в военной неразберихе кто-то что-то перепутал и мой младший брат жив?..
Вспоминается картинка довоенного быта нашей семьи... В тесно заставленной комнате — большой темный дубовый буфет, печка, металлическая кровать с шариками, диван, а на трельяже символ счастья — семь слоников. Посередине комнаты — большой обеденный стол. Вечер с субботы на воскресенье. У нас гости. Нет, они не справляли шабат, чем по нынешним представлениям тогдашняя благочестивая еврейская семья должна была бы заниматься, — взрослые дулись в преферанс. Причем карточные баталии затягивались до самого утра. С застольем и танцами. Мы с братом в это время лежали на диване за ширмой и прислушивались к разговорам взрослых, их речи нас убаюкивали. Сейчас кажется странным, что в то время никто не пытался говорить тише, дети засыпали и так.
...Большая кухня коммунальной квартиры с керосинками и примусами, где все готовили себе обед. Телефон один на семнадцать человек, и на его звонок шел отвечать любой из соседей. Это атрибуты моего детства, и они совсем не похожи на нынешние. Изменилось все: быт, люди, нравы...
Брату было четыре года, а мне шесть, когда закончилось наше детство. Началась блокада, и мы впервые услышали незнакомые и непонятные слова: карточки, госпиталь, сироты. Горе вошло в каждую семью...
Для нас реальность войны началась 7 ноября 1941 года, с даты, в людской памяти связанной совсем с другими событиями. В тот день хоронили нашего дядю, добровольцем ушедшего на фронт, ставшего разведчиком, получившего тяжелое ранение и доставленного в городской госпиталь. Спасти его врачи не смогли. Помню, взрослые ушли, оставив нас с братом дома одних. Не успела защелкнуться входная дверь, как на улице завыла сирена, раздался страшный грохот, и одновременно со звоном выбитых оконных стекол везде погас свет. Братишка заревел, я схватил его за руку, но туг послышались чужие голоса и нас куда-то потащили. Я тогда еще очень удивился, ведь мама только-только вышла из квартиры. Почему она не вернулась за нами обратно, почему не она ведет нас в сторону бомбоубежища? Но туда мы в тот раз не добрались.
Когда закончился воздушный налет и опять дали свет, оказалось, что мы с братишкой в дворницкой, где на скамье в шубе лежала мама и безразлично смотрела в потолок. Нас к ней не подпустили, только сказали, что она ранена и ее повезут в госпиталь.
Для меня эти слова стали началом бесконечной цепи маленьких трагедий моего военного детства. До лета сорок первого года из книжек и кино я знал, что ранеными бывают только бойцы, и то в схватке с врагом. А тут, в дворницкой никаких врагов не было, и раненой была моя мама.
В конце того же дня нас отвели в ближайший детский дом. Он находился недалеко от Казанского собора. До революции в этом огромном здании была гимназия. В памяти остались ее большие холодные залы. Во время бомбежек и артобстрелов мы спускались в подвал, где находились спальни, в каждой из которых размещалось более пятидесяти человек.
На борьбу с чувством голода были брошены все силы маленьких организмов. Я, например, изобрел свой способ: старался долго не ходить в туалет, считая, что мое терпение вознаградится ощущением сытости. Иногда нам давали изюм и мятные таблетки, которые казались богатством. Я клал в рот по одной таблетке и внушал себе, что голод уходит, я сыт. Со стыдом вспоминаю, как однажды стащил из кармана пижамы моего более бережливого брата несколько таких мятных таблеток...
Уже в наше время, на одном из торжественных заседаний Союза воспитанников блокадных детских домов слово взяла старенькая женщина. Как выяснилось, в войну она работала заведующей одним из детских домов. Вот что она рассказывала о тех днях: «Перед нами, воспитателями, стояли печальные сгорбленные дети. Все, как один, жались к печке и, как птенчики, убирали свои головки в плечики и воротники, спустив рукава халатиков ниже кистей рук.
Наш план работы первого дня оказался неудачным. Детей раздражала музыка, она им была не нужна. Они часами могли сидеть молча. Их раздражали и улыбки взрослых. Музыка, игрушки, наш показной оптимизм — все только усиливало тяжелые переживания детей. Резкий общий упадок был выражен не только во внешних проявлениях ребят, все их нервировало, все затрудняло.
Мы долго боролись за то, чтобы дети шли мыться не плача. А они плакали, обманывали, ссорились и прятались от воспитателя, объясняя это тем, что вода холодная. Исключительно бурную реакцию проявили дети, когда в детдоме для них организовали первую баню. Все малыши, как один, криком кричали, не желая мыться. Очень долго не хотели снимать с себя рейтузы, валенки, платки и шапки, хотя в помещении было тепло. Они украдкой ложились в постель в верхнем платье, в чулках, в рейтузах. Трудно было отучить детей от привычки спать с головой под одеялом, в позе спящего котенка. Странная поза, излюбленная у детей,— лицо в подушку, и вся тяжесть туловища на согнутых коленях, попка кверху. “Так теплее”,— говорили воспитанники.
Больно было видеть, как они ели. Суп съедали в два приема: вначале бульон, а потом все остальное. Кашу и кисель намазывали на хлеб. Если киселя не давали, крошили хлеб на малюсенькие кусочки и прятали их в спичечные коробки. Хлеб могли оставлять как большое лакомство, рассматривать его, словно какую-нибудь диковину, и есть после третьего блюда, наслаждаясь тем, как кусочек хлеба медленно тает во рту. Никакие убеждения, никакие обещания не влияли до тех пор, пока они не окрепли...».
В середине зимы 42-го наш детский дом был эвакуирован из Ленинграда. По данным городской эвакуационной комиссии, с 22 января по 15 апреля 1942 года по «Дороге жизни» было эвакуировано более полумиллиона человек, из них более двенадцати с половиной тысяч детдомовцев. К тому моменту мама оправилась от ранения, и в эвакуацию мы добирались уже с ней.
Сперва, начиная от Финляндского вокзала, нас долго трясло на грузовых машинах. Мы пересекали Ладожское озеро. Было жутко холодно, но не страшно. Еще бы, мы ехали с мамой туда, где было много хлеба! Другой мечты у детей блокады, наверное, не было.
Уже на первой станции, по-моему, она называлась Жихарево, эта мечта стала явью. Нам дали очень сытную, сдобренную маслом еду, от которой некоторые дети умерли — не выдержали истощенные, больные желудки.
Потом, помню, ехали в теплушке. В каждую набивалось множество людей с тюками домашних вещей. В такой теплушке я привыкал к обыденности смерти. В Ленинграде нас от нее как-то защищали, ведь в тот период, пока детдом находился в городе, прогулок по улице не было и видеть трупы мы не могли. А здесь, в теплушке, от смерти не отвернешься. Она уже не становилась большим событием. Люди зверели. Осталось в памяти то, как одна женщина, перед тем как выкинуть труп дочери из поезда, сняла с нее всю одежду, может быть, надеялась выменять ее на продукты. Что с человеком делал голод! Кажется, он вытаскивал откуда-то со дна человеческой души самые подлые качества...
Сегодня, с высоты своего возраста, не перестаю удивляться мужеству моей мамы, Анны Николаевны Воловик. Сколько же ей тогда досталось, а ведь ей не было еще и тридцати! В самом начале пути на нее случайно упал чайник с кипятком. Вся нога была ошпарена. Кое-как чем-то помазали, кое-как перевязали. Доехали до Вологды. Вроде бы большая станция — там помогут. Но случилось непредвиденное, брат вначале почувствовал недомогание, а когда прошел медосмотр, нас и вовсе сняли с поезда — у брата обнаружили инфекционную болезнь.
На постой остановились в одном заброшенном доме, надо было как-то дальше жить. Постепенно стали приходить в себя, но усиленное лечение не спасло младшего брата. Кроме этой болезни у него была и общая дистрофия. Как-то мама кормила его бульоном, и вдруг он зажал ложку зубами. Это была агония — малыш умирал у нас на глазах. Даже на Большой земле, в просторной и чистой больничной палате никто не в силах был ему помочь, потому что голод раньше уже сделал свое страшное дело. Почему-то мне кажется, что в это последнее мгновенье он вспомнил всю свою коротенькую жизнь. Я и сейчас чувствую свою вину перед этим маленьким человечком за то, что не сумел тогда помочь ему выкарабкаться.
Он умер в инфекционном отделении детской больницы. Как всех умерших в таких отделениях, чтобы не разносить заразу, его похоронили в братской могиле. Больше я его не видел, ни живым, ни мертвым. Вот почему, когда я слышу о человеке, который ищет своих родных, до сих пор надеюсь на чудо. Надеюсь на то, что война, блокада, детский дом, смерть младшего брата и смерти других близких людей мне приснились в длинном-длинном страшном сне. С этой надеждой легче жить. До сих пор...
Да, надо жить дальше, хоть порой воспоминания настигают нас внезапно и, как пел А. Галич: «Возвращается боль, потому что ей некуда деться».