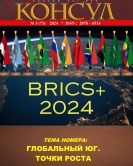История повторяется. Владимир Дмитриев
Исполнилось 80 лет Российскому этнографическому музею (РЭМ) — одному из крупнейших этнографических музеев мира. В его коллекции 570 тысяч памятников материальной культуры 157 народов, в разное время населявших территорию Российской империи, СССР и современной России, начиная с XVIII века. В конце ноября на торжественное собрание по случаю юбилея в его залах собрались многочисленные российские и зарубежные гости, в том числе руководители музеев и учреждений, деятельность которых исторически и содержательно связана с Российским этнографическим музеем: Государственного Русского музея, Музея антропологии и этнографии народов мира имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН и Института этнологии и антропологии РАН (Москва). В перерыве между заседаниями наш корреспондент встретился с главным научным сотрудником РЭМ, доктором исторических наук Владимиром Дмитриевым и попросил его рассказать об основных периодах становления и развития музея.
 Здание Этнографического отдела Русского музея. Нач. ХХ в.
Здание Этнографического отдела Русского музея. Нач. ХХ в.112 или 80?
Вообще-то датой основания РЭМ вполне можно было бы считать 1902 год, когда в составе Русского музея Александра III начал работу этнографический отдел. Однако самостоятельным музейным учреждением он стал только в 1934 году. Именно тогда на базе Русского музея в Ленинграде создаются два новых музея — художественный и этнографический. Последний получил официальное название Государственного музея этнографии. В августе 1948 года, после передачи коллекций из Музея народов СССР в Москве, он был переименован в Государственный музей этнографии народов СССР, а с 1992 года стал называться Российским этнографическим музеем.
Не следует забывать и о том, что история музея началась с Указа императора Николая II 1895 года, повелевавшего учредить музей в память о покровителе искусств и ремесел Александре III. Свое место в коллекции нашли вещи, переданные в его фонд семьей Романовых. В качестве прародителей Музея этнографии можно было бы назвать и императорский Русский музей и Кунсткамеру Петра Великого, которая уже в то время существовала как академический Музей антропологии и этнографии и ощутимо влияла на формирование интереса к изучению народной культуры. Как известно, в дореволюционной России не было министерства культуры, и музеи подчинялись отдельным профильным ведомствам. К примеру, Артиллерийский музей существовал при военном ведомстве, а Государственный Эрмитаж — при министерстве Двора. К этому же министерству был приписан и Русский музей императора Александра III. Изначально в нем предполагалось создание двух отделов — этнографического и художественного. И то, что за создание этнографического музея взялись члены императорской фамилии, было явлением положительным.
 Мраморный зал. Торжественное собрание, посвященное открытию экспозиций Этнографического отдела
Мраморный зал. Торжественное собрание, посвященное открытию экспозиций Этнографического отделаСтановление музея
Функции нового музея предварительно определены не были. Более того, появление Этнографического отдела в Русском музее вызвало сумятицу в академической среде. Возникал вопрос: чем будет заниматься второй после Музея антропологии и этнографии этнографический музей в российской столице, который уже существовал как учреждение? Благодаря позиции Дмитрия Клеменца, бывшего народовольца, в то время главного специалиста Кунсткамеры, ставшего руководителем Этнографического отдела, была обнародована следующая формула: этнографический отдел занимается в первую очередь народами Российской империи, затем народами сопредельных стран, включая народы Средней и Южной Европы, стран Ближнего и Дальнего Востока, и, наконец, славянами в мировом масштабе. Несомненно, в этой формуле просматривалась определенная националистическая нотка, однако она неминуемо должна была соединиться с идеей, которая движет любым этнографом: посредством вещей объективно отразить состояние культуры того или иного народа. А этнографы для работы в музее подбирались вполне профессиональные. Поэтому, какие бы идеологические задачи ни ставились перед новой структурой, все равно научная парадигма этнографии пробивала себе дорогу.
С 1902 года сотрудники отдела приступили к собирательской работе, а в 1909 году была организована первая выставка для специалистов, которая показала, что ее авторы не руководствовались никакими государственными установками, а просто показывали вещи. Потом наступил 1917 год, который нанес достаточно серьезный ущерб музейному делу. Я никоим образом не склонен осуждать ход исторического развития в стране и роль Февральской и Октябрьской революций, принесших определенный прогресс, но для музейного дела этот год стал кризисным. Однако в 1918–1921 годах была подтверждена важность существования Этнографического отдела, более того, Русский музей в ходе всех преобразований обзавелся еще и Историко-бытовым отделом, куда попадали все образцы бытовой культуры. И если мы сегодня не можем похвастаться музеем, где хранились бы достижения научно-технической мысли XX века, начиная от пишущей машинки, то это только потому, что не стало Историко-бытового отдела.
С моей точки зрения, 1920‑е годы для этнографической науки в целом были важным периодом, обусловившим ее дальнейшее развитие. Именно тогда музей приступил к организации комплексных экспедиций, состоящих из высокопрофессиональных сотрудников, которые отправлялись в регионы для исследования археологических и этнографических памятников, изучения биосферы и экологии. Школа, рассматривавшая археологическую и этнографическую науки в единстве, впоследствии получила название палеоэтнографической. Ее расцвет пришелся именно на 1920‑е годы, тогда же она стала известна за рубежом. Вспомним, что в тот период даже именитые ученые, в том числе и университетские преподаватели, работу с музейными коллекциями считали очень важным делом.
На новом витке отечественной истории
 Экспериментальная выставка этнографических предметов. Русские. 1909
Экспериментальная выставка этнографических предметов. Русские. 1909 Экспозиция «Узбекистан в феодальный период». 1934
Экспозиция «Узбекистан в феодальный период». 1934В конце 1920‑х годов в стране активизируются преобразования революционного характера, проводятся индустриализация, коллективизация и, конечно же, реконструируется сфера идеологии. В 1925 году состоялось совещание музейных работников, на котором впервые прозвучала критика в адрес музеев, была поставлена задача перейти от музеев «императорского типа», то есть комплексных, сложившихся в дореволюционное время, к музеям общеисторическим — специализированным. В 1929 и 1932 годах прошли два совещания, выработавшие четкую и жесткую директиву: этнография и археология, как и другие науки в социалистическом обществе, должны быть социалистическими. Были названы и центры сосредоточения «старой науки», в числе которых оказались московский Музей народоведения (бывший Румянцевский музей) и ленинградский Русский музей в целом. Главными фигурами в Этнографическом отделе были Александр Миллер, крупнейший специалист, создатель отечественной школы палеоэтнографии, и не менее известный археолог и этнограф Сергей Руденко, поэтому в первую очередь досталось им. В конце концов, в 1932 году начинается процесс перестройки Этнографического отдела в музей советского типа, и в 1934‑м Этнографический отдел Русского музея становится самостоятельным музеем. К сожалению, к тому времени большая часть сотрудников с дореволюционным опытом покидают его, многие из них были репрессированы.
Трудные годы
Музей тяжело переживает период реорганизации. Несмотря на планы властей сделать его центром этнографической науки, в «Ленинградской правде» в 1937 году появляется статья о нем как о музее контрреволюционной мысли. После этого музей закрывается, но через два месяца его вновь открывают, не внося принципиальных изменений в структуру имеющихся экспозиций. В 1938 году проводится музейное совещание по разработке программы деятельности. Было решено, что значительную часть экспозиции следует посвятить показу социалистических наций и народностей.
В принципе, если отбросить ритуальное слово «социалистических», такую экспозицию, посвященную народной культуре, можно по праву считать этнографической. Единственное, что требовалось, это ввести в экспозицию некую советскую «концовку», вполне, надо сказать, уместную для того времени. Конечно, присутствовало много бумажных экспонатов — стендов и диаграмм, но это было время культурной революции, и многим посетителям требовалось прямолинейное объяснение происходящих событий, ведь они только научились читать и писать, только что освоили язык плаката…
С 1934 года стали снова выезжать в этнографические экспедиции. Но это были поездки отдельных сотрудников за этнографическими экспонатами — вещами. О каких-то идеях — зачем эти вещи нужны — особо не говорилось. И все же экспедиции свидетельствовали о том, что музей состоялся и ему предстоит долгая жизнь. Тем более что в Москве постепенно добивали второй центр музейно-этнографической работы — Центральный музей народоведения. Многих его сотрудников репрессировали в 1920–1930‑х годах. Новое ядро коллектива дало целую плеяду знаменитых фамилий, но это не оказало никакого влияния на развитие музея, он постепенно хирел, и в 1948 году был окончательно закрыт. Его коллекции передаются в наш музей, который к тому времени стал называться Государственным музеем этнографии народов СССР.
Годы войны и восстановления разрушенного
 Выставка «Ненцы и эвенки». 1951
Выставка «Ненцы и эвенки». 1951 Раздел «Рыболовство» экспозиции «Русские». Кон. ХХ в.
Раздел «Рыболовство» экспозиции «Русские». Кон. ХХ в.Собирательство и научная деятельность не прекращались и во время войны. Часть сотрудников оставалась в Ленинграде и спасала музей под бомбежками и артобстрелами, часть отправилась в эвакуацию в Новосибирск вместе с музейными ценностями. Одна из бомб, разорвавшаяся в подвале, причинила зданию и коллекциям значительный ущерб.
В послевоенный период музей стал развиваться как большое коллекционное собрание, и можно говорить о том, что он уже постепенно превращался в институт этнографического факта. Это особенно важно, поскольку в последнее двадцатилетие мы сталкиваемся с тем, что традиционная народная культура, которая должна интересовать музей, практически ушла из нашей жизни. И собранные в дореволюционное время, а также в 1920-е, 1930‑е и 1950‑е годы вещи — это то, над чем музей сейчас в основном работает, создавая экспозиции и временные выставки.
Состоявшееся научное учреждение
В последние 20 лет страна очень сильно изменилась — ушел марксизм, исчез советский образ жизни, пропали многие объединяющие общество начала, но страна, как таковая, осталась. В 1992 году Государственный музей этнографии народов СССР получает новое имя, под которым он сегодня и известен во всем мире, — Российский этнографический музей.
Анализируя пройденный музеем путь, я рискнул бы сравнить 90‑е годы с 20-ми годами прошлого столетия, имея в виду то, что — как в послереволюционные, так и в послеперестроечные годы — государству было не до музеев. Если в 1920‑е оно закрывало глаза на участие в работе музея специалистов с дореволюционным багажом знаний, то в 1990‑е вообще перестало замечать музеи, предоставив им «почетное» право выживать, кто как может.
И наш музей выжил. Выжил в том числе и потому, что создавал в 1990‑х годах выставки, способные приносить доход, поскольку они рассказывали о важных вещах, в том числе и таких, о которых раньше умалчивалось. Например, были подготовлены выставки, рассказывающие о роли семьи Романовых в образовании музейных коллекций, о культуре евреев и других народов, о которых мало говорилось в советский период.
В музее постепенно мы продолжаем совершенствовать достаточно устойчивый пакет временных выставок, представляя кроссэтническую проблематику. В последнее десятилетие в экспозиционной деятельности переходим к концепции так называемых региональных экспозиций, позволяющих говорить не только об этносе, но и о группе этносов, об определенной общности.
Являясь одновременно хранилищем большого количества этнографических фактов, музей в состоянии работать над собственными коллекциями, обстоятельно развивая метод этнографического музееведения, то есть специфической науки, которая характеризует этнографический факт именно в музее. И последнее. Мы постепенно выходим на идею евразийской оценки комплекса национальных культур на территории бывшей Российской империи. Поэтому, встречая свое 80-летие или, если угодно, 112-летие, Российский этнографический музей ощущает себя вполне самостоятельным, состоявшимся научным учреждением — признанным центром этнографической науки, устоявшим в условиях разного рода реформ системы образования и науки.